Всё лето в Центре современной культуры «Смена» идет выставка, которая заставляет взглянуть на историю авангарда под новым углом. «Партия Сотониных. На полях казанского авангарда» — это не просто собрание работ, а настоящий семейный манифест.
.png)
Трое родственников, три творческих вселенных, три способа бунтовать против обыденности:
• Константин Сотонин — философ-провокатор, придумавший «философскую клинику», где лечили не тело, а дух, избавляя людей от «недовольства жизнью».
• Галина Сотонина — художница, шахматистка и «амазонка авангарда», чьи работы ломали представления о женском в искусстве.
• Виктор Сотонин — архитектор-конструктивист, строивший не просто здания, а новую реальность.
Их судьбы сплелись с бурной историей XX века, а творчество стало частью уникального явления — Казанского авангарда. В 1920–30-е здесь, вокруг АРХУМАСа (местных архитектурно-художественных мастерских), кипела экспериментаторская жизнь. Об этом мы поговорили с двумя из трех кураторов выставки — искусствоведом Верой Силкиной и главным редактором медиа «Крот Казанский» Иваном Ротовым.
Расскажите, как вы заинтересовались жизнью и деятельностью Сотониных?
Сейчас я продолжаю изучать Сотониных через материалы, переданные их потомками — из Нижнекамска, Подмосковья и Казани.
Вера Силкина: Мой дедушка, профессор физики КГУ, был типичным представителем поколения «физиков и лириков» — обожал искусство, коллекционировал его. А Галина Сотонина часто выставлялась в университетах и научных институтах. Так дедушка однажды купил её картину — она с детства висела у нас дома, потом переехала ко мне. Это работа «Цейтнот»: шахматная доска, огромные зловещие часы, давящие на короля, у которого почти не осталось времени. Она всегда и завораживала, и пугала меня. Позже, когда я проходила курс по советскому искусству, я снова задумалась о Галине Сотониной и увидела ее по-новому.
Я заметила, что её работы 1960-70-х годов несут в себе мощный отпечаток раннего модернизма 1910-20-х. Стала копать глубже — и оказалось, что в 1920-е она училась в казанских художественных мастерских и была полноправной участницей местного авангардного движения. Написала о ней статью, сделала доклад... Кирилл Маевский знал о моём интересе к её творчеству и позвал меня курировать её раздел на этой выставке.
Что вас больше всего зацепило в этом исследовании?
Иван Ротов: Эмоциональный момент случился, когда мы обнаружили в семейном архиве небольшую деревянную рамку с образцом ткани. Я знал, что Галина Сотонина в 1920-е разрабатывала текстильные узоры. И вот — уникальный экспонат, вероятно единственный сохранившийся образец её ранних работ по ткани, который теперь можно увидеть на выставке.
У Константина очень человечные тексты, хотя он писал, в том числе манифесты и политизированные брошюры. Например, «НОТ как философия трудящихся масс» начинается с удивительно тёплых слов: «Любое действие человека преследует целью достичь радости или избежать несчастья».
Вера Силкина: Главное, что объединяет Сотониных — это преданность своему делу. Они были настоящими созидателями: несмотря на все сложности эпохи, продолжали творить, не сдавались. Их история — сложная, но вдохновляющая. Она заставляет задуматься о том, как важно оставаться верным своим идеям, даже когда обстоятельства против тебя.
Мне особенно ценно в искусствоведении и кураторской работе «возвращать» таких персонажей — вводить их имена в культурный дискурс. Они могут не быть «гениями первого ряда», но в этом-то и их ценность: их истории ближе к обычному человеку. Их упорство, их поиски — это то, что может вдохновить каждого.
Какие смыслы захотелось пронести через экспонаты?
Вера Силкина: Для нас было важно передать дух юности, молодости, который в 20-е годы соседствовал с голодом и разрухой. Но это ещё и история взросления — как советская художественная система в начале 1930-х начала меняться, всё стало бюрократизироваться, а единственным заказчиком оказалось государство.
Многие, кто активно работал в 1920-е, вдруг оказались не у дел — не смогли вписаться в новые рамки. Кто-то бросил искусство, но были и те, как Галина Сотонина, кто нашёл свой путь. Её история уникальна: через шахматы она вернулась в искусство — оформляла турниры, таблицы, и постепенно её стали замечать. Выставлялась в клубах, институтах, на выставках самодеятельных художников, но в официальной системе так и не стала «профессионалом».
Галина прожила почти весь советский период — её судьба словно зеркало эпохи. Но вся семья Сотониных — это разные грани того времени: архитектура, философия, искусство. Их истории переплетаются с большой историей страны, и в этом особая ценность.
Есть ли какой-то принцип, по которому подбирались экспонаты?
Иван Ротов: Название выставки многозначно. «Партия» — это и шахматная партия, и музыкальная партия, и группа единомышленников. «Поле» — одновременно шахматная доска, поля страниц, где делают заметки, поле, где прорастает урожай и т.д.
В зале нет «правильного» маршрута: Рядом с работами Сотониных мы разместили произведения их учителей, друзей, учеников — Александры Платуновой, Константина Чеботарёва и других. Горизонтальные связи между ними важнее линейного повествования.
Нам невероятно повезло с находками. Многие работы Виктора Сотонина обнаружились почти случайно в архиве ГМИИ. Часть картин предоставили частные коллекционеры из Москвы и Казани. Архитектурные проекты, графика — большинство этих экспонатов десятилетиями хранились в фондах и вряд ли когда-то ещё соберутся вместе.
Особенно ценно, что выставка показывает казанский авангард во всём его разнообразии. Деятельность Института НОТ и университетских преподавателей была не менее новаторской, чем работы художников. Их смелые идеи заслуживают такого же внимания, как и художественные эксперименты того времени.
Какие экспонаты следует разглядывать с особым вниманием?
Иван Ротов: Советую не спеша пройти три зала, отмечая переклички между ними: фамилии с книжных обложек могут появиться в подписях к картинам. Перед входом в четвертый зал с арт-объектами стоит прочитать кураторские тексты — так будет понятнее.
В зале Константина обратите внимание на витрину под стеклянным колпаком — там дневник его брата Павла с черепом на обложке (1910-е). В этом же зале — книги из фондов университета: можно отсканировать QR-коды и прочитать их дома.
В зале Галины советую рассмотреть альбом с экспериментальными фото 1920-х и самодельные игрушки (она создавала их как педагог).
Вера Силкина: Каждый предмет на выставке заслуживает внимания — многие из них показываются впервые. Особенно интересно рассматривать материалы, из которых созданы работы: пожелтевшая бумага разных оттенков, скромные средства — всё это рассказывает об ограниченных возможностях художников того времени.
Один из самых выразительных экспонатов — гравюра в разделе Виктора Сотонина, изображающая быт студентов. На ней с юмором показаны суровые условия жизни: студенты поливают друг друга из ковша, рядом неказистая буржуйка с сохнущими носками. Надпись на обороте гласит: «Это не тюремный быт, а студенческий». Эта работа удивительно точно передаёт дух времени и то, как молодёжь находила силы шутить даже в трудных обстоятельствах.
Это уже не первая выставка, посвященная авангардистам Казани и Поволжья. Как думаете, почему это направление вновь в фокусе внимания?
Вера Силкина: Этот интерес закономерен. Во-первых, это продолжение исследований, начатых ещё в 1990-2000-е годы, когда впервые после советского периода стали изучать региональный авангард. Первые выставки тогда были посвящены таким объединениям, как «сулф» и «ТатЛЕФ» (Татарский левый фронт искусств).
Во-вторых, сегодня растёт спрос на локальные истории в искусстве. Мы видим всё больше выставок, возвращающих забытые имена — тех, кто по разным причинам выпал из "официальной" истории искусства. Эти камерные истории помогают по-новому понять эпоху.
Художественная жизнь Поволжья 1920-х ещё мало изучена, хотя материалов сохранилось немало. Проблема в их разрозненности и сложности систематизации. Но именно поэтому каждая новая находка — будь то забытый экспонат в музейных запасниках или семейный архив — может стать началом серьёзного исследования.
1920-е — удивительное время мечтателей, творивших среди руин Гражданской войны. Их идеи, их энергия до сих пор вдохновляют. Современного зрителя привлекает и то, что эти истории — о реальных людях с их стойкостью и верностью принципам.
Гуляя по выставке, невольно задумываешься о популярной сегодня теме родологии, историях про «силу предков». Была ли такая идея заложена изначально?
Вера Силкина: Хотя изначально такой задачи не стояло, выставка действительно заставляет задуматься о своих корнях. Когда начинаешь изучать старые фотографии или семейные архивы, часто обнаруживаешь неожиданные связи с историей. Как показывает практика «Крота Казанского», такие личные истории — бесценны. Они делают прошлое живым и близким каждому из нас.
Иван Ротов: Это ни в коем случае не выставка о «силе рода» или «родологии» Речь не о том, что «правильная родословная» гарантирует величие.
Да, в семье Сотониных было много ярких личностей — инженеры, химики, поэты. Но нам важно было показать другое: как в 1920-е, в эпоху разобщённости и конфликтов люди всё-таки создавали связи.
Сотонины были частью большого круга, «семьи» казанского авангарда — с учителями, друзьями, коллегами. Это история не о «гениальной семье», а о сообществе, где кровные узы становились лишь одним из многих типов связей.
Обращаясь к нашим читателям, кому и зачем вы порекомендуете обязательно посетить выставку?
Иван Ротов: Главный урок, который можно вынести из наследия Сотониных — в любых условиях можно творить. Казань 1920-х — город разрухи, голода, социального хаоса. Но посмотрите, сколько они успевали: писали книги, рисовали, занимались спортом и наукой, находили жильё, работу и единомышленников.
Их наследие — живое доказательство: когда занимаешься тем, что действительно нравится, внешние обстоятельства отступают. Есть ощущение, что у Сотониных в сутках было больше часов, чем у нас с вами.
Надеюсь, эта выставка мотивирует зрителя заниматься любимым делом, вспомнить о проектах, которые давно откладывал.
Вера Силкина: Эта выставка — универсальный диалог с каждым зрителем. Она говорит с молодыми на языке творческой свободы.
Выставка становится зеркалом для тех, кто ищет связь с прошлым — через семейные архивы, через городскую память. Она напоминает: история живёт не только в учебниках, но и в старых фотографиях, письмах, случайных находках.
А еще это просто красивое и умное путешествие в эпоху, где казанские художники, философы и архитекторы спорили о будущем, творили вопреки голоду и разрухе, оставив нам удивительное наследие, которое только сейчас обретает голос. Каждый экспонат здесь — история сопротивления забвению.
Интервью: Динара Зиннатова
Фото: Центр современной культуры «Смена», фотограф Даниил Шведов
Дизайн: Раиль Набиулли



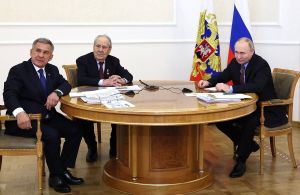
Нет комментариев